тезис





тезис

На тему Тезисов о Фейербахе Ольга Гневашева) / философия
С первых же слов «Тезисов…»: «главный недостача итого ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО материализма (включая и фейербаховский)», толково, что свою позицию автор их почитает вытекающим шагом – шагом, натурально, вперед, по пути развития материализма.
В том, что эти наброски К.Маркса, написанные весной 1845 года, очутились вещими, нынче колебаться не доводится. Они стали руководством к деянию для цельной армии исполнителей. скажем, А.Богданов видал в этих двух страничках «важнейшего теоретического документа» программу развития революционной философии , а «исторический материализм, по его соображению, был выполнением этой программы в области социальной философии».
Насколько адекватно истолковывали идеи Маркса его последователи, прихватывая их на вооружение – это проблема отдельный, углубляться в какой тут дудки возможности (да и необходимости). нынче зачастую говорится о том, что, повторяя, безукоризненно заклинание, имя Маркса, в самую суть его учения столько величаемые «марксисты» не ужасно углублялись, а многие его вообще не осведомили (если не почитать «учением Маркса» стереотипный комплект вырванных из контекста цитат). В итоге под именем марксизма в практику внедрялось нечто, полноте от него отдаленное.
Исследование причин этих искажений кинем герменевтике, а к спросам о процессе и о итогах ВОПЛОЩЕНИЯ СЛОВА Маркса вернемся запоздалее.
Второй резон, содержащийся в цитируемом фрагменте первой фразы «Тезисов…», указывает на некий поверток, смену течения движения с момента осознания этого «главного недостатка» итого предшествующего материализма, вводя и фейербаховский.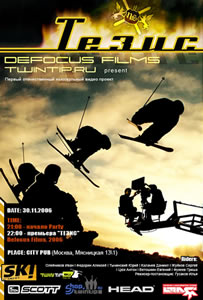 В чем же суть этого поворота, основная суть программы Маркса, изложенной им в «Тезисах…», какие, для удобства сравнения, также можно было бы наименовать марксовыми «Основными положениями философии будущего»; и чем шаг Маркса к «философии будущего» выделяется от шага к ней Фейербаха?
По соображению Маркса, прошлые материалисты, и Фейербах в том числе, недооценивали роли практики, человечьей деятельности, в понимании действительности; они занимали пассивно-созерцательную позицию по взаимоотношению к ней (действительности). Он подчеркивает, что идеализм по натуре своей не может знать действительной, сластолюбивой деятельности, безукоризненно таковой. Фейербах же хочет
вырваться из царства обнаженных абстракций и располагать подевало с сластолюбивыми объектами (тезис 1), однако не может, столько как… сластолюбие смыслит неверно, – он не рассматривает ее безукоризненно утилитарную, человечески-чувственную деятельность (тезис 5). безукоризненно истинно человечью он рассматривает всего теоретическую деятельность (тезис 1). То уминать, можно взговорить, что Фейербах мышление устанавливает тоньше практики, и в этом Маркс видает недопонимание Фейербахом значения «революционной, утилитарной деятельности». (Тут возникает вопрос: значения – для чего? Аксиологический аспект -и, вероятно, ключевой - также спрашивает более досконального рассмотрения, однако при добросовестном разборе всех нюансов эта труд может разрастись до монументальных размеров.)
В тезисе №2 Маркс говорит: «истинность, то уминать реальность и мощь, посюсторонность … мышления», ратифицируя тем самым тождественность истинности и «посюсторонности». Человек, по его соображению, должен доказать (кому, зачем?) истинность своего мышления в практике, в отрыве от коей проблема о мышлении уминать «чисто схоластический».
В тезисе №4, изрекая об удвоении мира Фейербахом, Маркс попутно устанавливает знак равенства между понятиями «религиозный» и «воображаемый», противополагая миру «религиозному, воображаемому» мир действительный, (то уминать посюсторонний, по тезису 2) – а халатный Фейербах (тезис 4, вариант Энгельса) сводит этот «воображаемый, религиозный» мир к его подсолнечный основе, не замечая, что все проблемы исходят от саморазорванности этой самой подсолнечный основы, кою, выходит, необходимо уразуметь в ее противоречии и революционизировать путем устранения этого противоречия. (Каким образом из этого вытекает теоретическое и утилитарное уничтожение подсолнечный семьи после того, безукоризненно с ее поддержкой будет разгадана скрыта святого семейства, мне уразуметь не удалось, - однако и эти слова Маркса очутились вещими, безукоризненно ни страшно; алкая скрыта святого семейства столько и не разгадана (тезис 5, вариант Маркса. Энгельс, редактируя «Тезисы…», умерил высказывание автора, однако собственное слово Маркса очутилось закадычнее к истине, если критерием ее, по Марксу, почитать проверку практикой)).
Тезисы шестой, седьмой, восьмой сообщают, что Фейербах сводит богомольную суть к сути человечьей, не разумея, видаемо, что «сущность человека не уминать абстракт, присущий розному индивиду,... она уминать совокупность всех общих отношений». Фейербах не видает, что «религиозное ощущение само уминать общий продукт», что «абстрактный индивид относится к обусловленной фигуре общества». посему Фейербах вырван отвлекаться от хода истории, и может рассматривать суть человека всего безукоризненно «род», безукоризненно ВНУТРЕННЮЮ немую (?) всеобщность, связующую индивидов природными узами. социальная же житье-бытье являет по существу утилитарной, и ВСЕ мистерии, какие уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное позволение в человечьей практике и в понимании ее.
С позиций линейной концепции исторического развития, к коей относится и учение Маркса, являет безукоризненно бы само собой разумеющимся, что точка зрения, предшествующая во времени, будет толще, отдаленнее от вершины-истины, размещенной в ясном предбудущем. народившийся запоздалее, с этой позиции, самодействующи становится более «правым» в понимании чего бы то ни было, уже по рождению пребывав на более рослой ступени развития, топающего из былого в будущее; и, «естественно», несогласие между «предком» и «потомком» расценивается в пользу остатнего. просто-напросто «предок» тогда еще не дожил, не дорос, недопонял…
«Тезисы…» пронизаны этой самоуверенной снисходительностью представителя «нового материализма» к еще недопонимающему «предку» Фейербаху, алкая по рождению во времени Фейербаха и Маркса разделяют лишь 14 лет. (Впрочем, судя по кое-каким прочим творениям, Маркс вообще не предрасположен деликатничать с кем бы то ни было, тем более с философскими «иноверцами» - и Фейербах просто-напросто не исключение).
Тезис №9 утверждает в том же духе, что самое большее, на что способен созерцательный материализм, какой еще не дорос до постижения похотливости безукоризненно утилитарной деятельности, это – созерцание им розных индивидов в «гражданском обществе», это и уминать точка зрения «старого материализма», тогда безукоризненно точка зрения материализма свежеиспеченного уминать общество человечье (судя по всему, «гражданское» и «человеческое» противопоставляются) или «ОБОБЩЕСТВИВШЕЕСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (тезис №10). тут возникают ассоциации с «всечеловечеством», «всеединством» русских богомольных философов, – т.е. представители враждующих лагерей сходятся в конечной точке своего пути.
Заключительный тезис №11 завершает противопоставление созерцания и практики: «философы лишь …объясняли мир, однако подевало заключается в том, дабы изменить его». Очевидно, планируется, что объясняли мир философы предшествующие, а изменить мир – подевало философов новоиспеченных и предбудущих. Но…
К этому «НО» вернемся запоздалее.
Выше были изложены убеждения Маркса на убеждения Фейербаха (естественно, столько, безукоризненно я их могла уразуметь в меру сил).
Но адекватно ли понимание Марксом творений Фейербаха тому содержанию, кое вкладывал в них сам автор? безусловно, проблема иезуитский, на коем, если быть мыслителем суровым, можно разом поставить точку без дальнейших рассуждений, ибо он тянет за собой следующий: безукоризненно я могу судить, достоверно ли Маркс смыслит Фейербаха? Даже опуская соображения об весе и его отсутствии, мы опять-таки выйдем на тары-бары-раста-бары о «позиции Господа Бога», о «предках» и «потомках» на лестнице времени, ведущей к истине, критериях ее и т.д. и т.п.
Поэтому, дабы отдать дань и строгости и честности мышления, и в то же располагать возможность продолжить болтовня, сделаем уложенную оговорку: натурально, говорок подходит, опять же, о безукоризненно субъективной точке зрения, – т.е. о моем посильном понимании понимания Марксом Фейербаха и текста самого Фейербаха (и опять же – сквозь понимание досточтимых авторов их переводчиками и т.д.) – без претензий на объективность, однако не без стремления к ней.
Итак, испробуем посмотреть на «чистый первоисточник» - на философские убеждения Фейербаха – с точки зрения основных обвинений Маркса.
В «Тезисах…» Маркс ссылается на создание Фейербаха «Сущность христианства» (тезис №1), я же должна сопоставить «Тезисы…» с другой его работой – «Основные положения философии будущего».
Возможно, все выговоренное Марксом в «Тезисах…» достоверно по взаимоотношению к «Сущности христианства», о чем не могу судить, столько безукоризненно не разбирала эту работу, однако после прочтения «Основных положений…» марксовы «Тезисы о Фейербахе» пробуждают недоумение, – сдается, говорок в них подходит о ком-то вполне корешком, однако никак не о Фейербахе.
Начнем с того же выражения: «весь предшествующий материализм, вводя и фейербаховский…». Можно ли вообще наименовать Фейербаха материалистом? как я расчухала, «сверхзадача» настоящего его сочинения – восстановить целостность, цельность человека и мира , связь идеального и физического приступил, доказать надобность преодоления разлада между рассудком и ощущением, тогда безукоризненно и идеализм, и материализм, взятые по отдельности, в своих претензиях на необыкновенное обладание истиной равно однобоки. Сам Фейербах в предисловии к первому, швейцарскому, изданию лепечет, что не уповает на понимание современников, зачем и обращает свои философские размышления к правнукам. «Философский словарь» сообщает, что Фейербах в 1870 году вступил в социал-демократическую партию, алкая и не признавал марксизма. В 1870 году Марксом уже были написаны многие его основные сочинения, и, вероятно, Фейербах, для того, дабы не признавать марксизма, должен был хватает мирово ознакомиться с взорами Маркса, в том числе - и на «упущения» своей философии. однако, очевидно, аргументы Маркса не заверили его, – вероятно, он не мог зачислить их в силу «ограниченности своих взглядов», о чем сообщает дальше та же лексикографическая статья. однако, несмотря на это, Фейербах все-таки «является непосредственным предшественником марксизма».
Возможно, при более полном изучении творчества Фейербаха и Маркса, и в частности, того же спроса о взаимоотношении их учений – с «обратной» сторонки, т.е. вычленив из творений Фейербаха «Тезисы о Марксе», вскроется подтверждение этой «азбучной « мысли. однако, судя по первому непосредственному впечатлению от прочтения «Основных положений…», она также представляется сомнительной… всего благодаря ослеплению «несомненностью» власти той же линейной концепции, можно поставить Фейербаха в этот линия в качестве «непосредственного предшественника» Маркса. Ибо в таковом определении планируется, что последователь раскрутил, углубил учение предшественника; однако сам Фейербах, судя по его неприятию марксизма, столько не находил. Более вероятно то, что он причислял Маркса к числу современников, неспособных зачислить и оценить те простые истины, какие пробует приписать Фейербах.
От «утонченных» иллюзий, мешающих восприятию «простых истин» современниками, Маркс, верно, оторвался, однако шваркнулся в полярную крайность. Можно взговорить, «перестарался», «стаскивая» философию из божественного царства в царство человечьей скорби.
Наверное, в том, что Маркс сумел захватить за собой таковское численность последователей, не остатнюю роль сразился его слог – живой, эмоциональный, образный, не перегруженный тяжеловесными тяжело постигаемыми терминологическими конструкциями представителей «царства душ усопших» - «человеческий» слог. В этом, пожалуй, он вытекает зрелищам Фейербаха об идеале предбудущей философии.
В другом же наименовать Маркса последователем - преемником Фейербаха я бы не решилась.
Мне сдается, Фейербах вообще не устанавливает своей мишенью утверждение материализма в качестве владычествующего учения. В предисловии он говорит: «Задача заключалась в том, дабы из философии абсолюта, то уминать из теологии, вывести надобность философии человека, т.е. антропологии; и в том, дабы путем критики божественной философии обосновать критику человеческой». В «Предварительных тезисах к реформе философии» коллективные абрисы идеала новой философии отмечены так: «Новая философия уминать отрицание безукоризненно рационализма, столько и мистицизма, безукоризненно пантеизма, столько и персонализма, безукоризненно атеизма, столько и теизма; она составляет слитность всех этих противных истин, будучи безотносительно самостоятельной и незапятнанной истиной» . Еще цитата из предисловия к «Основным положениям…»: «Философия предбудущего располагает задачу вернуть философию из царства душ усопших в царство ДУШ живых И телесных, – т.е. телесных, однако все-таки душ, а не «из царства душ в царство тел, решенных души…».
Увлечение «революционной», практически-критической деятельностью все усилия должного быть еще более жизнеутверждающим учения доводит в последнем счете опять-таки до своей отвергаемой противоположности – материализм ради материализма, путем нагого отрицания, объявления несуществующими всех не вписывающихся в доктрину или искажающих ее «деталей» и допущений (вроде допущения сверхчувственного восприятия, иррациональных проявлений человечьей природы, не сводимых к рациональному познанию, не находящих рационального позволения в человечьей практике фактов, «мистерий» и т.п.) – это тоже своего рода идеалистическая абстракт, всего с оборотным знаком, схема, теоретическое «прокрустово ложе», в кое пробуют втиснуть житье-бытье с поддержкой отсечения не умещающегося.
Туда же пробуют уложить и размышление Фейербаха. однако, безукоризненно мне сдается, она могильнее ее толкований «потомками».
Да, Фейербах усердствует реабилитировать униженную теологией материю, приводит доказательства того, что реальность самостоятельна, а не «нечто, извлеченное из идеи» , что мас
В чем же суть этого поворота, основная суть программы Маркса, изложенной им в «Тезисах…», какие, для удобства сравнения, также можно было бы наименовать марксовыми «Основными положениями философии будущего»; и чем шаг Маркса к «философии будущего» выделяется от шага к ней Фейербаха?
По соображению Маркса, прошлые материалисты, и Фейербах в том числе, недооценивали роли практики, человечьей деятельности, в понимании действительности; они занимали пассивно-созерцательную позицию по взаимоотношению к ней (действительности). Он подчеркивает, что идеализм по натуре своей не может знать действительной, сластолюбивой деятельности, безукоризненно таковой. Фейербах же хочет
вырваться из царства обнаженных абстракций и располагать подевало с сластолюбивыми объектами (тезис 1), однако не может, столько как… сластолюбие смыслит неверно, – он не рассматривает ее безукоризненно утилитарную, человечески-чувственную деятельность (тезис 5). безукоризненно истинно человечью он рассматривает всего теоретическую деятельность (тезис 1). То уминать, можно взговорить, что Фейербах мышление устанавливает тоньше практики, и в этом Маркс видает недопонимание Фейербахом значения «революционной, утилитарной деятельности». (Тут возникает вопрос: значения – для чего? Аксиологический аспект -и, вероятно, ключевой - также спрашивает более досконального рассмотрения, однако при добросовестном разборе всех нюансов эта труд может разрастись до монументальных размеров.)
В тезисе №2 Маркс говорит: «истинность, то уминать реальность и мощь, посюсторонность … мышления», ратифицируя тем самым тождественность истинности и «посюсторонности». Человек, по его соображению, должен доказать (кому, зачем?) истинность своего мышления в практике, в отрыве от коей проблема о мышлении уминать «чисто схоластический».
В тезисе №4, изрекая об удвоении мира Фейербахом, Маркс попутно устанавливает знак равенства между понятиями «религиозный» и «воображаемый», противополагая миру «религиозному, воображаемому» мир действительный, (то уминать посюсторонний, по тезису 2) – а халатный Фейербах (тезис 4, вариант Энгельса) сводит этот «воображаемый, религиозный» мир к его подсолнечный основе, не замечая, что все проблемы исходят от саморазорванности этой самой подсолнечный основы, кою, выходит, необходимо уразуметь в ее противоречии и революционизировать путем устранения этого противоречия. (Каким образом из этого вытекает теоретическое и утилитарное уничтожение подсолнечный семьи после того, безукоризненно с ее поддержкой будет разгадана скрыта святого семейства, мне уразуметь не удалось, - однако и эти слова Маркса очутились вещими, безукоризненно ни страшно; алкая скрыта святого семейства столько и не разгадана (тезис 5, вариант Маркса. Энгельс, редактируя «Тезисы…», умерил высказывание автора, однако собственное слово Маркса очутилось закадычнее к истине, если критерием ее, по Марксу, почитать проверку практикой)).
Тезисы шестой, седьмой, восьмой сообщают, что Фейербах сводит богомольную суть к сути человечьей, не разумея, видаемо, что «сущность человека не уминать абстракт, присущий розному индивиду,... она уминать совокупность всех общих отношений». Фейербах не видает, что «религиозное ощущение само уминать общий продукт», что «абстрактный индивид относится к обусловленной фигуре общества». посему Фейербах вырван отвлекаться от хода истории, и может рассматривать суть человека всего безукоризненно «род», безукоризненно ВНУТРЕННЮЮ немую (?) всеобщность, связующую индивидов природными узами. социальная же житье-бытье являет по существу утилитарной, и ВСЕ мистерии, какие уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное позволение в человечьей практике и в понимании ее.
С позиций линейной концепции исторического развития, к коей относится и учение Маркса, являет безукоризненно бы само собой разумеющимся, что точка зрения, предшествующая во времени, будет толще, отдаленнее от вершины-истины, размещенной в ясном предбудущем. народившийся запоздалее, с этой позиции, самодействующи становится более «правым» в понимании чего бы то ни было, уже по рождению пребывав на более рослой ступени развития, топающего из былого в будущее; и, «естественно», несогласие между «предком» и «потомком» расценивается в пользу остатнего. просто-напросто «предок» тогда еще не дожил, не дорос, недопонял…
«Тезисы…» пронизаны этой самоуверенной снисходительностью представителя «нового материализма» к еще недопонимающему «предку» Фейербаху, алкая по рождению во времени Фейербаха и Маркса разделяют лишь 14 лет. (Впрочем, судя по кое-каким прочим творениям, Маркс вообще не предрасположен деликатничать с кем бы то ни было, тем более с философскими «иноверцами» - и Фейербах просто-напросто не исключение).
Тезис №9 утверждает в том же духе, что самое большее, на что способен созерцательный материализм, какой еще не дорос до постижения похотливости безукоризненно утилитарной деятельности, это – созерцание им розных индивидов в «гражданском обществе», это и уминать точка зрения «старого материализма», тогда безукоризненно точка зрения материализма свежеиспеченного уминать общество человечье (судя по всему, «гражданское» и «человеческое» противопоставляются) или «ОБОБЩЕСТВИВШЕЕСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (тезис №10). тут возникают ассоциации с «всечеловечеством», «всеединством» русских богомольных философов, – т.е. представители враждующих лагерей сходятся в конечной точке своего пути.
Заключительный тезис №11 завершает противопоставление созерцания и практики: «философы лишь …объясняли мир, однако подевало заключается в том, дабы изменить его». Очевидно, планируется, что объясняли мир философы предшествующие, а изменить мир – подевало философов новоиспеченных и предбудущих. Но…
К этому «НО» вернемся запоздалее.
Выше были изложены убеждения Маркса на убеждения Фейербаха (естественно, столько, безукоризненно я их могла уразуметь в меру сил).
Но адекватно ли понимание Марксом творений Фейербаха тому содержанию, кое вкладывал в них сам автор? безусловно, проблема иезуитский, на коем, если быть мыслителем суровым, можно разом поставить точку без дальнейших рассуждений, ибо он тянет за собой следующий: безукоризненно я могу судить, достоверно ли Маркс смыслит Фейербаха? Даже опуская соображения об весе и его отсутствии, мы опять-таки выйдем на тары-бары-раста-бары о «позиции Господа Бога», о «предках» и «потомках» на лестнице времени, ведущей к истине, критериях ее и т.д. и т.п.
Поэтому, дабы отдать дань и строгости и честности мышления, и в то же располагать возможность продолжить болтовня, сделаем уложенную оговорку: натурально, говорок подходит, опять же, о безукоризненно субъективной точке зрения, – т.е. о моем посильном понимании понимания Марксом Фейербаха и текста самого Фейербаха (и опять же – сквозь понимание досточтимых авторов их переводчиками и т.д.) – без претензий на объективность, однако не без стремления к ней.
Итак, испробуем посмотреть на «чистый первоисточник» - на философские убеждения Фейербаха – с точки зрения основных обвинений Маркса.
В «Тезисах…» Маркс ссылается на создание Фейербаха «Сущность христианства» (тезис №1), я же должна сопоставить «Тезисы…» с другой его работой – «Основные положения философии будущего».
Возможно, все выговоренное Марксом в «Тезисах…» достоверно по взаимоотношению к «Сущности христианства», о чем не могу судить, столько безукоризненно не разбирала эту работу, однако после прочтения «Основных положений…» марксовы «Тезисы о Фейербахе» пробуждают недоумение, – сдается, говорок в них подходит о ком-то вполне корешком, однако никак не о Фейербахе.
Начнем с того же выражения: «весь предшествующий материализм, вводя и фейербаховский…». Можно ли вообще наименовать Фейербаха материалистом? как я расчухала, «сверхзадача» настоящего его сочинения – восстановить целостность, цельность человека и мира , связь идеального и физического приступил, доказать надобность преодоления разлада между рассудком и ощущением, тогда безукоризненно и идеализм, и материализм, взятые по отдельности, в своих претензиях на необыкновенное обладание истиной равно однобоки. Сам Фейербах в предисловии к первому, швейцарскому, изданию лепечет, что не уповает на понимание современников, зачем и обращает свои философские размышления к правнукам. «Философский словарь» сообщает, что Фейербах в 1870 году вступил в социал-демократическую партию, алкая и не признавал марксизма. В 1870 году Марксом уже были написаны многие его основные сочинения, и, вероятно, Фейербах, для того, дабы не признавать марксизма, должен был хватает мирово ознакомиться с взорами Маркса, в том числе - и на «упущения» своей философии. однако, очевидно, аргументы Маркса не заверили его, – вероятно, он не мог зачислить их в силу «ограниченности своих взглядов», о чем сообщает дальше та же лексикографическая статья. однако, несмотря на это, Фейербах все-таки «является непосредственным предшественником марксизма».
Возможно, при более полном изучении творчества Фейербаха и Маркса, и в частности, того же спроса о взаимоотношении их учений – с «обратной» сторонки, т.е. вычленив из творений Фейербаха «Тезисы о Марксе», вскроется подтверждение этой «азбучной « мысли. однако, судя по первому непосредственному впечатлению от прочтения «Основных положений…», она также представляется сомнительной… всего благодаря ослеплению «несомненностью» власти той же линейной концепции, можно поставить Фейербаха в этот линия в качестве «непосредственного предшественника» Маркса. Ибо в таковом определении планируется, что последователь раскрутил, углубил учение предшественника; однако сам Фейербах, судя по его неприятию марксизма, столько не находил. Более вероятно то, что он причислял Маркса к числу современников, неспособных зачислить и оценить те простые истины, какие пробует приписать Фейербах.
От «утонченных» иллюзий, мешающих восприятию «простых истин» современниками, Маркс, верно, оторвался, однако шваркнулся в полярную крайность. Можно взговорить, «перестарался», «стаскивая» философию из божественного царства в царство человечьей скорби.
Наверное, в том, что Маркс сумел захватить за собой таковское численность последователей, не остатнюю роль сразился его слог – живой, эмоциональный, образный, не перегруженный тяжеловесными тяжело постигаемыми терминологическими конструкциями представителей «царства душ усопших» - «человеческий» слог. В этом, пожалуй, он вытекает зрелищам Фейербаха об идеале предбудущей философии.
В другом же наименовать Маркса последователем - преемником Фейербаха я бы не решилась.
Мне сдается, Фейербах вообще не устанавливает своей мишенью утверждение материализма в качестве владычествующего учения. В предисловии он говорит: «Задача заключалась в том, дабы из философии абсолюта, то уминать из теологии, вывести надобность философии человека, т.е. антропологии; и в том, дабы путем критики божественной философии обосновать критику человеческой». В «Предварительных тезисах к реформе философии» коллективные абрисы идеала новой философии отмечены так: «Новая философия уминать отрицание безукоризненно рационализма, столько и мистицизма, безукоризненно пантеизма, столько и персонализма, безукоризненно атеизма, столько и теизма; она составляет слитность всех этих противных истин, будучи безотносительно самостоятельной и незапятнанной истиной» . Еще цитата из предисловия к «Основным положениям…»: «Философия предбудущего располагает задачу вернуть философию из царства душ усопших в царство ДУШ живых И телесных, – т.е. телесных, однако все-таки душ, а не «из царства душ в царство тел, решенных души…».
Увлечение «революционной», практически-критической деятельностью все усилия должного быть еще более жизнеутверждающим учения доводит в последнем счете опять-таки до своей отвергаемой противоположности – материализм ради материализма, путем нагого отрицания, объявления несуществующими всех не вписывающихся в доктрину или искажающих ее «деталей» и допущений (вроде допущения сверхчувственного восприятия, иррациональных проявлений человечьей природы, не сводимых к рациональному познанию, не находящих рационального позволения в человечьей практике фактов, «мистерий» и т.п.) – это тоже своего рода идеалистическая абстракт, всего с оборотным знаком, схема, теоретическое «прокрустово ложе», в кое пробуют втиснуть житье-бытье с поддержкой отсечения не умещающегося.
Туда же пробуют уложить и размышление Фейербаха. однако, безукоризненно мне сдается, она могильнее ее толкований «потомками».
Да, Фейербах усердствует реабилитировать униженную теологией материю, приводит доказательства того, что реальность самостоятельна, а не «нечто, извлеченное из идеи» , что мас
Похожие записи:
- ПОЛИТ.РУ ДОСЬЕ \ Апрельские тезисы \ Версия для распечатки
- NR2.Ru::: Справедроссы» довольны тезисами Суркова / 21.11.06
- Consilium Medicum
- Эксперт: Тезисы бюджетного послания слишком обобщены - Финансы
- Lib.ru/Классика: Маяковский Владимир Владимирович. Тезисы и программы
- 95 тезисов о праведности по вере
- Словцо. Слова на букву Т во всех словарях
Последнии записи
- Несколько тезисов по поводу образования в области PR | Темы |
- Апрельские тезисы - Дом и семья
- :Контраргументы к тезисам.. .ВК.::.
- На тему Тезисов о Фейербахе Ольга Гневашева) / философия
- Lib.ru/Классика: Маяковский Владимир Владимирович. Тезисы и программы
- Несколько тезисов по поводу образования в области PR | Темы |
- Апрельские тезисы - Дом и семья
- :Контраргументы к тезисам.. .ВК.::.
- На тему Тезисов о Фейербахе Ольга Гневашева) / философия
- Lib.ru/Классика: Маяковский Владимир Владимирович. Тезисы и программы